Капиталистический романтизм (он же — капром) можно любить и ненавидеть, ностальгировать по нему и презирать, но уже очевидно: этот стиль стал символом недавно ушедшей эпохи. С капромом знаком каждый, кто прогуливался мимо вычурных вокзалов или «стекляшек» бизнес-центров, построенных в девяностые и нулевые. Основные признаки стиля выделили архитектор Даниил Веретенников, урбанист Гавриил Малышев и искусствовед Александр Семенов. Их они описали в книге «Круги капрома», которую недавно выпустило издательство TATLIN. Публикуем отрывок, где авторы рассказывают, как развивался капром в России, а еще выясняют, правда ли, что небоскребы строят люди с комплексами.
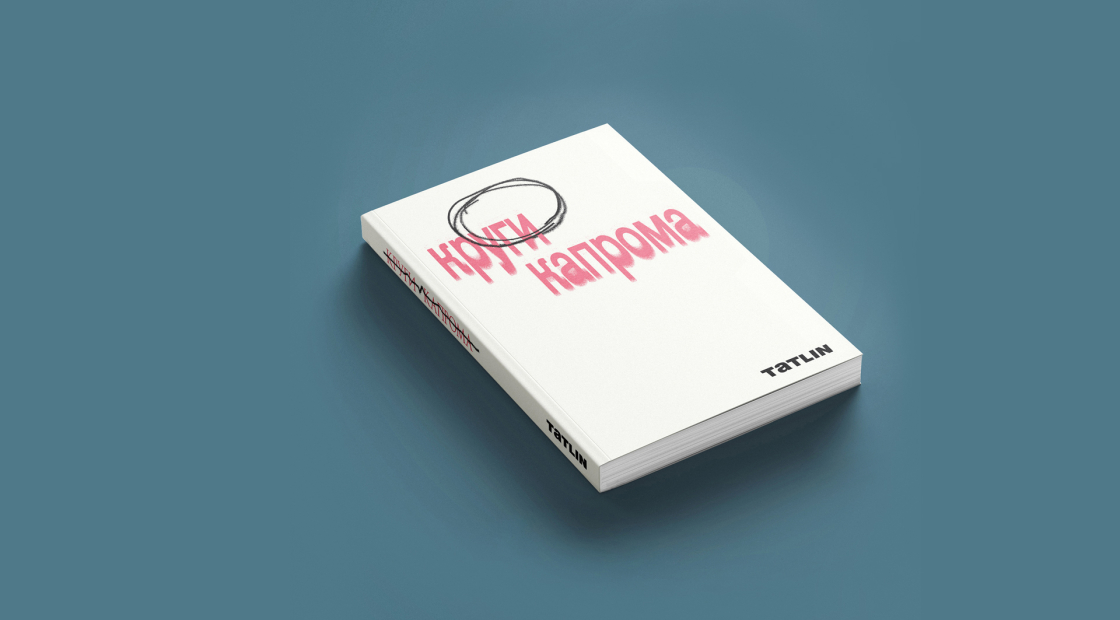
Обложка книги «Круги капрома», Даниил Веретенников, Гавриил Малышев, Александр Семенов, издательство TATLIN, 2025
В общем, раскладываем: был марксизм-ленинизм — стал фрейдизм-членинизм. Есть две традиции в постсоветской архитектуре, которые мы в каламбурном порядке поместили в общую главу. Это высотное строительство (членинизм) и страстные изгибы (изгибиционизм) — феномены, которые вряд ли связаны друг с другом чем-то помимо эротических коннотаций предложенных нами терминов.
В городах России, где стоимость земли совсем недавно обрела денежное выражение, небоскребы в своем каноническом, манхэттенском виде оказались попросту невозможны. Ландшафт американских даунтаунов формировался многие десятилетия в условиях свободного рынка. Небоскреб России и развивающихся стран Востока вещь другой природы. Символического в нем зачастую больше, чем утилитарного. Отсюда популярные рассуждения о том, что небоскребы — это симптом комплекса неполноценности заказчика. Нам представляется, что все несколько сложнее.
Идеологическая брешь в национальном сознании, выращенном на коллективистских ценностях, в 1990-е быстро заполнилась культом индивидуализма со всей его соревновательностью, стремлением быть замеченным и тягой к демонстрации личного превосходства. А поскольку нет более простого способа символического установления социальной иерархии, чем практика мериться длиной чего бы то ни было, выразителем амбиций новой элиты быстро и закономерно стал небоскреб. Небоскреб — это воплощение идеи преодоления советского прошлого и воспарения над советским городом, почти всегда уравнительно-горизонтальным. Все, что видно поверх крон деревьев и крыш панелек, новое и веселое. Все, что прячется в их тени, старое и грустное.
Несправедливо было бы умолчать и о непременной фаллической коннотации любой городской вертикали. А вертикаль постсоветская — это еще и сублимация сексуальности после десятилетий социалистического пуританства.
У высотного строительства есть еще целый ряд архетипических смыслов, возводимых обычно к Вавилону и прочим попыткам штурма небес. Однако в контексте постсоциалистического мира, кажется, они мало о чем могут рассказать. Частью строительной культуры небоскреб стал только в двух российских городах — Москве и Екатеринбурге. В других местах он возникает почти всегда в качестве единичных исключений, да и тех по пальцам перечесть.
Между тем эти исключения порой бывают заметнее и содержательнее, чем московские и екатеринбургские примеры. Так, высочайшее здание России удалось реализовать в Петербурге, известном строгостью своих высотных регламентов и исключительной плоскостью городского ландшафта. Рекордсменом стала 462-метровая башня штаб-квартиры ПАО «Газпром», больше известная как «Лахта Центр».

«Лахта Центр», Санкт-Петербург, 2023 © Ксения Инверс
Хронология строительства не позволяет однозначно отнести башню «Газпрома» к памятникам капиталистического романтизма. Многофункциональный комплекс с небоскребом начали строить в 2012 году, но отделочные работы продолжались и до 2023-го. Тем не менее капромантическая природа проекта сомнений не вызывает. Узнаваемый образ башни появился на архитектурном конкурсе далекого 2006-го, когда вера в непотопляемость капитализма еще не была подорвана всемирным финансовым кризисом, а «Газпром» планировал строить свою штаб-квартиру в другом месте на Охтинском мысу, ровно напротив Смольного монастыря.
В конце 2000-х вокруг «Охта Центра» развернулась настоящая информационная война. Известные деятели культуры с экранов телевизоров увещевали петербуржцев полюбить этот проект. Говорили о том, что Петербургу необходимо развиваться, строить образ будущего, обретать новые архитектурные символы, одним из которых, безусловно, станет стеклянная башня высотой (тогда еще) 396 метров. Петербуржцы, радеющие за сохранение небесной линии города и спасение охтинских археологических памятников, до сих пор не могут простить Михаилу Боярскому слова: «Это будет чудесное архитектурное сооружение на брегах Невы... „Охта Центр“ — это красота архитектуры, устремленная ввысь, современная. Был бы жив Петр І, он бы первым подписал указ о строительстве этого грандиозного сооружения. Это будет праздник, это будет символ города! Внуки, правнуки будут гордиться тем, что мы отстояли „Охта Центр“».
«Газпром» и вставшая на его сторону в то время губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко отказались от планов застройки Охтинского мыса в результате мощного сопротивления, оказанного сразу по всем фронтам. Помогли и пикеты городских активистов, и давление федерального министерства культуры, и результаты многоэтапных судебных тяжб, и угрозы ЮНЕСКО исключить Петербург из своего списка объектов мирового наследия в случае реализации проекта.
Градозащитники недолго наслаждались своим триумфом. Башня перекочевала с Охты на Лахту, причем в процессе еще и смогла подрасти почти на 70 метров. Любопытно, что она сохранила при этом свой силуэт и пятигранные очертания, вдохновленные планом шведской крепости Ниеншанц, на руинах которой ее собирались строить. Несмотря на то, что расположилась она несколько дальше от исторического центра, чем в варианте с Охтой, иконические невские панорамы она изменила едва ли не радикальнее, чем могла бы. А «Газпром», не успев закончить внутреннюю отделку своего небоскреба, в 2021 году цинично анонсировал планы по строительству поблизости второго. В полтора раза выше предыдущего...
И хотя высотный рекорд удерживает Петербург, а количественный Москва, столицей русского небоскреба справедливо считается Екатеринбург. Пожалуй, это единственный российский город, в котором небоскребы не просто стали органичной частью городского ландшафта, но и основной композиционной темой. Не случайно международный строительный форум с говорящим названием «100+» проводится именно здесь, в Манхэттене-на-Исети. Всего в Екатеринбурге построено около двух десятков зданий высотой свыше 100 метров или вплотную приближающихся к этой отметке.

Вид на «Екатеринбург Сити», Екатеринбург, 2021 © Дима Четыре
Парадокс в том, что первый небоскреб начали строить в 2004 году и... не достроили до сих пор. Это торгово-деловой центр «Свердловск» (он же «Призма») со шпилем высотой 151 метр. Почти готовое здание так и не ввели в эксплуатацию, потому что с юридической точки зрения оно представляет собой самострой, который возводили без разрешения на строительство. Застройщик давно обанкротился, а башня уже много лет стоит обернутая в белую пленку и приговоренная к сносу.

ТДЦ «Свердловск» («Призма»), Екатеринбург, 2022 © Богдан Лобанов
«Москва-Сити» (Московский международный деловой центр) — пожалуй, единственный проект Лужкова, в котором образ новой Москвы трактовался не в формах эклектичного узорочья, а в сверкающих гранях небоскребов. В действительности никакого контраста здесь нет. Исключительность «Москва-Сити» только подчеркивает эклектичность и сумбурность подхода к обновлению образа столицы.

«Москва Сити», Москва, 2022 © Ксения Инверс
История «Москва-Сити» начинается в 1991 году, когда архитектор Борис Тхор обратился к Юрию Лужкову с предложением о создании в Москве комплекса высотных зданий международного делового центра. Вскоре после этого запустился длительный процесс по планированию и подготовке территории, и спустя пять лет началось строительство «Башни 2000» — первого объекта ММДЦ. Автором проекта предсказуемо выступил сам Борис Тхор. На 2025 год в «Сити» функционирует 19 жилых, деловых и гостиничных башен высотой более 100 метров, но главная доминанта комплекса продолжает строиться. Ей станет One Tower авторства мастерской Сергея Скуратова — жилой небоскреб высотой 443 метра.
Изгибиционизм в постсоветской архитектуре имеет два корня — классический и бионический. Памятники первого круга черпают кривизну своих форм из элементов традиционной архитектуры от античности до ар-нуво, зачастую гипертрофируя размеры и пластику этих элементов. В качестве примеров можно привести элегантный дом в Перми (ул. Советская, 20; 2002) и бизнес-центр «Афродита» в Ростове-на-Дону (2007). Привычная на первый взгляд палитра лучковых фронтонов, волют и кронштейнов создает в этих зданиях совершенно новое прочтение ордерности, которое отличается от типично постмодернистского преобладанием изогнутых форм над прямолинейными. Вторая группа памятников, кажется, обязана своим существованием популярности биотека — архитектурного направления, вдохновленного пластикой природных форм и биологических структур. А еще почему-то космосом. Да и просто творчеством таких уважаемых архитекторов, как Сантьяго Калатрава, Заха Хадид и Кристиан де Портзампарк. Примером этого течения может послужить любой из сети гипермаркетов «Линия», что встречаются в южных регионах Центрального федерального округа.
Изгибиционизм хорошо представлен и в градостроительстве. Разглядывая спутниковые снимки коттеджных поселков, удивляешься, насколько сокрушительную победу в русском градостроительстве рубежа веков одержала кривая линия над прямой. Спирали, волны, концентрические круги и эллипсоиды резко контрастируют с чрезмерно рассудочными ортогональными сетками советского периода и безошибочно маркируют время разработки проекта. Эту же геометрию воспевают красные линии главного градостроительного детища Петербурга всей первой половины XXI века — намывных территорий Васильевского острова. Причудливо изогнутые коридоры будущих улиц начинают проступать на карте острова только сейчас, но план преобразований разработали и утвердили еще в конце 2000-х.
Полезные ссылки:
Подробнее о книге на сайте издательства.




