Для выпуска подкаста про генеалогию наши ведущие Маша и Леша взяли интервью у писательницы Еганы Джаббаровой, которая недавно получила за свой роман «Руки женщин моей семьи были не для письма» Гамбургскую премию. Поговорили с ней о семейной памяти, теле как приданом и наследии, а еще узнали, почему литература — это не терапия.

Егана, здравствуйте! Расскажите, почему вы решили написать книгу о своей семье?
Книга [«Руки женщин моей семьи были не для письма»] много лет существовала внутри, пока я ее наконец-то не написала. Я потом долго рефлексировала, почему это произошло именно в тот момент. Думаю, одной из причин стала дистанция, а именно отъезд в другую страну, работа в Национальном университете Чжэнчжи в Тайбэе — буквально на острове посреди Тихого океана. Такая дистанция оказалась, прямо скажем, достаточной для того, чтобы посмотреть не только на собственную биографию, но и на свою генеалогию как на нарративный материал.
Наверное, я просто осознала, что с самых ранних лет хотела найти какой-то опыт, который хоть как-то будет близок моему, и все никак не могла его найти. С возрастом этот запрос только рос, вопросов к собственной идентичности и к себе самой становилось все больше и больше. Кто я такая? Как себя позиционировать в мире, где ты везде чужак, не можешь быть вписан и не понимаешь, что с этим делать? Ты нигде не видишь ни одного героя, который был бы похож на твоих отца и мать: ни в литературе, ни в кинематографе. При этом начинаешь задаваться вопросом, а чей вообще опыт мы считаем принципиально значимым и стоящим?
Текст книги предваряет строчка из интервью Орхана Памука: «Ни одна жизнь не достойна того, чтобы стать основой для романа». И вот я раздумывала, заслуживают ли жизни моих близких и моя собственная быть нарративом. И пришла к выводу, что да. Вообще, мне кажется, что проблемность и острота автофикционального письма, особенно сейчас, заключаются в том, что такая литература часто репрезентирует опыт тех, кто долгое время был либо вытеснен из нее, либо оставался в тени.
Именно поэтому в какой-то момент произошел бум: неожиданно те, кто был выдавлен из канонического поля, вдруг стали говорить. Это начало невероятно бесить критиков и, кстати говоря, бесит по сей день. А я поняла, что тоже хочу репрезентировать опыт, хочу о нем сказать. Я осознала, что на самом деле моя субъектность, мое право быть всегда подвергались сомнению и никогда не были чем-то, что дается автоматически.
Есть такая статья философа Нельсона Мальдонадо-Торреса, которая называется «Coloniality of Being» [«О колониальности бытия»]. В ней он пишет, что тот, кто подвергается угнетению в широком смысле, чье право на существование вечно подвергается сомнению, на самом деле как будто не существует. Такому человеку нужно это право бесконечно заслуживать.
И я осознала, что, в общем-то, живу в ситуации, где мне бесконечно нужно заслуживать право на существование. А еще поняла, что не хочу больше этого делать, хочу вернуть его себе, реабилитировать раз и навсегда. И литература — отличный способ это сделать.

Егана Джаббарова. Руки женщин моей семьи были не для письма. No Kidding Press, 2023
Ваши близкие в этом процессе участвовали? Вы обсуждали с ними, что они станут предметом вашего писательского труда?
Это, кстати, важнейший этический вопрос, когда мы говорим об автофикциональном поле. С точки зрения правил, конечно, автор должен должен всех уведомить и получить согласие на то, чтобы книга случилась. В моем случае произошло чуть иначе...
Отчасти потому что книга писалась очень аффективно. Она создавалась едва ли не в горячечном состоянии, похожем на то, когда у тебя температура 40°. Совершенно не могла делать ничего, кроме как писать этот текст. Видимо, эта обсессивность мне свойственна, потому что точно также писалась моя диссертация по Цветаевой: эта тема была единственной, на которую я могла разговаривать с окружающими. Если они не соглашались поддерживать диалог, то я не видела необходимости общаться дальше. А когда писала «Руки», вообще не могла ни с кем коммуницировать.
И только когда уже вышла из этой обсессии, то поняла, что сделала. И встал вопрос: «Как мне с этим поступить? Нужно ли идти каяться, исповедоваться семье и спрашивать у них, что мы с этим со всем делаем? Получать их разрешение?». В тот же момент я поняла, что они, конечно, никогда в жизни его не дадут, ведь они ненавидят публичность и имеют на это право. Поэтому я не стала ни у кого спрашивать разрешения.
Кроме того, все-таки я написала не автобиографию, а автофикциональную вещь — это большая разница. Автофикциональный текст несет в себе вымысел, художественное изменение материала. И в этом смысле я создала скорее двойников. Это не столько мои реальные родители, сколько двойники, которые были мне нужны для того, чтобы вернуть себе утраченное право быть.
Так я решила не говорить с ними об этом. Знаю, что моя сестра начинала читать книгу, но ничего мне не написала — подозреваю, что она просто не дочитала. Единственный писатель, которого она любит и дочитывает, — Стивен Кинг. Соревноваться с ним мне невозможно, потому что «Рукам» не хватает убийства, триллера или саспенса.
Но в целом я даже рада, что так случилось. Не считаю, что должна заставлять родственников читать этот текст. Скорее всего, они воспримут его не так, как воспринимаю его я, он их травмирует — они не осознают до конца, что это любовный манифест.
Как в вашей семье передавалась ее история? Была ли какая-то коробка с фотографиями, альбом или что-то еще?
Еще одна причина, почему было решено писать данную книгу — я пыталась создать альтернативную форму бытования семейной памяти. Ее у нас осталось не так много, в частности потому, что мой отец бежал из Нагорного Карабаха и мало что тогда можно было сохранить. Остались, к счастью, какие-то семейные фотоальбомы с настоящими карточками. Для меня это очень большая радость, я часто к ним обращаюсь, листаю.
Со стороны мамы тоже оставались какие-то фотографии, но их было гораздо меньше. Родовое гнездо [той части семьи], к сожалению, утрачено, дома больше нет. А вместе с ним, соответственно, был утрачен доступ ко всем предметам, которые там оставались. Получается, что память и с той и с другой стороны семейного древа оказалась сильно откушена. В итоге мы имеем лишь пару семейных фотоальбомов.
Еще есть моя тетя, которую я очень люблю. Очень часто с ней разговариваю, условно интервьюирую, потому что она — главный источник памяти: лучше помнит детали, имена. Когда я работала над «Руками», то периодически задавала ей вопросы и что-то уточняла.
А еще у нас остались ковры — и это удивительно. Их историю никто толком не помнит. Все знают, что они есть, они семейные, но, например, как они появились, кто их привез, кто кому их подарил, уже никто не помнит. Отчасти поэтому я пытаюсь приучать свою семью как-то документировать подобные вещи. Меня, конечно, злит и расстраивает их безответственность в отношении к памяти.
Думаю, что утрачивая прошлое, мы утрачиваем гораздо больше, чем кажется. В том числе часть собственной идентичности, наследия, себя. Очень грустно от того, что в семье много подстертого.
Когда я работала над третьим романом [«Terra Nullius»], то специально приезжала на наши семейные могилы и задавала вопросы: чья это могила, кто здесь лежит. Было несколько очень странных могил. Например, двенадцатилетней девочки, про которую никто не мог ничего сказать.
Было очень тяжело работать с памятью не как с цельной тканью, а как с ажурной салфеткой — она вся уже дырявая, и ты не можешь нормально воспроизвести [ее рисунок]. Отчасти поэтому мне была нужна фикциональная часть, вымысел — иначе невозможно работать с этим материалом.
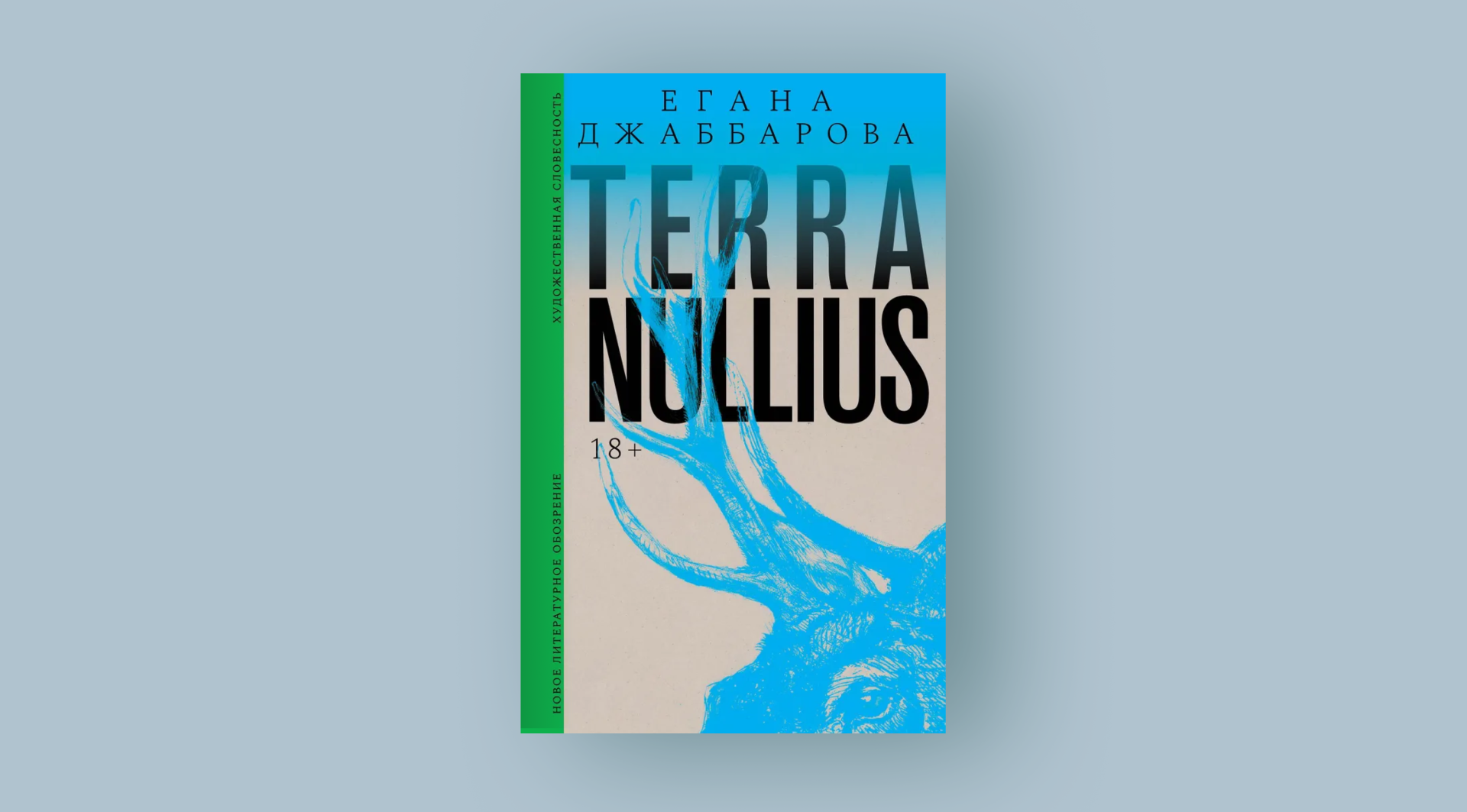
Егана Джаббарова. Terra Nullius. Новое литературное обозрение, 2025
Вы говорили, что «Руки» стали для вас способом вернуть себе право быть. И одновременно они были написаны для родственников, как своеобразное «подношение» — пусть они его даже никогда не прочитают. А для кого вы создаете — или восстанавливаете — семейный нарратив в целом?
Думаю, для меня самым важным была не столько реабилитация себя. Она стала скорее побочным эффектом, когда я уже закончила этот текст. Важнее было произвести реэкзистенцию утраченного поколениями. В своем письме я пытаюсь репрезентировать голоса, телесные опыты, совокупность чувственного восприятия, которые были стерты, которым отказывалось в праве быть, которые бесконечно вытеснялись. Мне очень хотелось это изменить, в том числе через воссоединение с семьей. Когда я писала все три текста, в особенности последний, «Terra Nullius», то очень отчетливо осязала связь с бабушкой, внутреннюю, почти телесную.
И этот же концепт лежал в основе первого текста. Изначально «Руки женщин моей семьи были не для письма» называлась не так. Первое название было «Джихис» — «приданое» на азербайджанском. То есть то, что собирается девочке буквально с рождения до момента, когда она выходит замуж. Зачастую это какие-то бытовые вещи: наволочки, простыни, красивая посуда, кастрюли, сковородки...
Но для меня было важно задать вопрос: а что такое джихис глобально? Помимо материальных предметов, это ведь еще и твое биологическое тело — твое ДНК, твои болезни, твоя склонность к полноте. А еще — культура, традиции. Ты наследуешь их автоматически или выбираешь, что взять? Для меня это были очень важные вопросы, потому что, например, я выросла не в Азербайджане. Могу ли я в этом случае быть наследницей этой культуры? Ответ «Да, можешь» стал для меня открытием.
Не обязательно расти внутри страны, чтобы наследовать ее культуру. Свои отношения с традициями я стала выстраивать будучи уже взрослым человеком.
Например, у нас дома не было принято чтение книг, поэтому Низами я стала читать уже в относительно взрослом возрасте. Точно так же я открыла для себя азербайджанскую сцену шестидесятых годов, которая мне безумно понравилась — обожаю готовить под эту музыку. И вот все это я выбрала в качестве своего приданого.
Моя книга — это попытка утвердить не только свое право, но и право всех тех, кто находится в тени. Я рассказываю историю моего отца, простого продавца на оптовом рынке, но ведь сколько рядом с ним других таких же продавцов на оптовых рынках. Или общага, которая появляется во втором и третьем текстах: сколько в ней живет других таких же, постоянно сталкивающихся с болью, неприятием, расизмом. Я пытаюсь создать пространства, где все мы можем сосуществовать. Хочется, чтобы мои тексты работали как шелтер, убежище.
Для вас важно, что «Руки» — прежде всего история женщин? Может ли этот текст быть прочитан как феминистский?
Безусловно, эта тема там есть. В книге очень важную роль играет тот момент, что говорят женщины. Большая часть опыта, который вы видите, — женский. Именно потому что он не просто вытеснен, он еще и бесконечно стирается насилием, обесценивается.
Неправильно считать этот текст исключительно феминистским, хотя этот элемент принципиально значимый.
Отчасти потому, что я выросла в таком мире, где всем дали по слову, а женщине нет — ну, может, половинку слова, да и то по случаю, когда разрешат. Конечно, мне хотелось этот дисбаланс перевернуть, пошатнуть.
Продление рода как такового зачастую связывается с мужчиной, особенно в тюркских культурах. Как и в арабской культуре, где имена могут быть очень длинными. Почему? Потому что там содержатся все имена мужских представителей рода. Мне хотелось это пересмотреть, ведь жизнь нам буквально дает женщина, которая нас физически вынашивает — и которую затем словно стирают из истории. След ее имени оказывается очень тяжело проследить.
Однажды исследовательница Эльмира Какабаева, которая читает курс про семейную автоэтнографию, вела мастер-класс, где спрашивала у участников, как звали их бабушек и прабабушек. Люди очень быстро посыпались, потому что могли быстро вспомнить, как звали дедушку, но совершенно не помнили имен бабушек. Это была удивительно яркая иллюстрация того, о чем мы говорим. Имена стираются институционально, канонически. Об этом же пишет Урсула ле Гуин, когда говорит о литературных бабушках. По ее словам, всякая пишущая женщина как будто бы первая — она не помнит своих предшественниц. Почему? Потому что они стираются из литературного канона и из литературы как таковой. Точно также женщины стираются и в ходе больших исторических процессов, например, политических репрессий.
Вместе с художником Анастасией Богомоловой мы делали проект «А.Л.Ж.И.Р.». Это книга, которую Анастасия сделала сама, в том числе бумагу для нее и все другие материалы. Я писала для нее поэтический текст, для чего работала с архивом Акмолинского лагеря жен изменников Родины. Когда я лазила по сайту, меня поразило, что заключенные разделены по национальным группам. Например, можно зайти на вкладку «Азербайджанки». У кого-то данные в картах были заполнены очень тщательно: не только фамилия, имя, отчество, но и где училась, работала. А у кого-то рассказ очень короткий, из разряда «жена такого-то». Видимо, все зависело от конкретного НКВДшника или человека, который вел записи. Меня тогда абсолютно поразило то, как много имен были стерты.
Потому-то мне кажется, что работа с памятью — принципиально важная для каждого из нас. До тех пор, пока мы несем эту память, мы не даем совершаться нечеловеческому. Стоит нам забыть о других, и мы сразу забудем о том, на что способна человеческая ненависть. Мы можем оказаться следующими, кого точно так же забудут, сотрут и уничтожат.

Развороты книги Анастасии Богомоловой с поэзией Еганы Джаббаровой «А.Л.Ж.И.Р.». 2024 © anastasiabogomolova.com
Для многих людей семейная память — это, как вы сказали, ключевая вещь для идентичности. Мне кажется, многие пытаются найти в истории своей семьи что-то хорошее, чем можно гордиться. Вот у меня был великий предок, и я поэтому тоже — хотя бы немного — такой. Почему для вас, вместо этого, было важно работать с травматическими, болевыми темами — и это все равно дало некий схожий эффект?
Мне кажется, что желание человека обнаружить кого-нибудь известного в роду — это попытка некого самоутверждения или валидации самого себя. Это, кстати, совершенно естественное человеческое желание, потому что мы все хотим чувствовать себя особенными, в этом нет ничего плохого. Так работает наша психика.
Но есть еще один важный момент. Очень не хочу, чтобы моя литература оставалась только на точке травмы. Для меня это большой вопрос: возможна ли деколониальная литература в значении литературы, преодолевающей травму? Мы знаем, что существует постколониальная литература со своими чертами, характеристиками. Но по большей части это все-таки литература, которая строится вокруг травмы — колонизации. Таким образом травма становится позвоночником. Если вы изымаете травму, то литература распадается.
Мне кажется важным как раз преодоление травмы. То есть не обесценивание ее, но преодоление в том смысле, что она не есть ядро, главное, позвоночник. Она не должна быть центром. Есть достоинство, которое представляет собой нечто большее, чем травма.
Я могу быть носителем травмы, могу испытать на себе последствия насилия. Человеческие существа очень хрупкие и наша жизнь — это во многом история той боли, которую мы получаем.
Но, как мне кажется, необходимо помнить, что вместе с тем любой из нас — субъект, несущий достоинство, хотя бы просто потому, что мы существуем. Каждый из нас — часть огромного наследия, огромного рода, огромного числа переданных практик, типов знания, например, колыбельных, рецептов, каких-то присказок, как справляться с головной болью или с чем-то еще. И это очень важная вещь, которую нужно документировать, щупать, помнить, не давать ей стираться. Ведь нет более мощного знания, чем рецепт, который передавали годами или даже столетиями. И когда тебе пять, тебя раздражает твоя мама, которая выписывает все в тетрадку, а когда тебе 35, ты понимаешь, что она производит очень серьезный, важнейший доколониальный жест.
При этом мне было важно не стирать плохое, потому что это тоже часть наследуемого, как и биологические признаки. Нечестно стерилизовать семейную историю и подавать ее только с благоприятной или выгодной стороны. Если я начинаю врать, то есть избирательно подходить к тому, как я пишу, то всё — это перестает быть литературой. Если написать о семье так, чтобы они тебя похвалили в конце и сказали: «Боже, какой ты лапулечка», это будет не совсем литература, а скорее открытка. Иногда это полезно, но стоит ли это делать в масштабах книги? Большой вопрос.
А как вы относитесь к психотерапии? Был ли у вас такой опыт, и насколько книга имела терапевтический эффект?
Для себя я осознала, что книга в частности и литература в целом, вообще-то, не терапия. Очень часто говорю об этом людям, которые хотят работать с травматическим опытом. Вначале придется пережить этот опыт, иначе автор никогда не сможет подойти к этому как к материалу. Он просто придавит как бетонная плита. Нередки ситуации, когда человек приходит и говорит: «Вот я готов. Напишу про гибель партнера или родителя». А потом в процессе работы оказывается, что человек просто не вывозит, не может это выдержать, плачет, доходит ужасного состояния. В такие моменты нужно сказать «Стоп» и направить его к терапевту.
Это было очень актуально, когда я писала вторую книгу [«Дуа за неверного»], посвященную брату. Мне потребовалось пять лет с момента его смерти [чтобы приступить к тексту], и даже спустя пять лет, уже проработав это, мне все равно было очень тяжело. В ней есть главы, которые я писала еле-еле, потому что практически умирала в этот момент эмоционально.
Я не подхожу к собственным книгам как к терапии, для этого у меня есть специалист, который помогает. Когда я сажусь работать над текстом — это не урна для эмоций. Читатель не обязан переживать всю тяжесть моего опыта.

Егана Джаббарова. Дуа за неверного. Новое литературное обозрение, 2024
Для меня ваш роман был в первую очередь про тело. Почему вам так важно было подчеркнуть эту тему в связи с семейной историей?
Это, кстати, отчасти то, о чем мы говорили, когда обсуждали колониальность бытия — когда твое право на существование постоянно подвергается сомнению, или когда ты как субъект как бы не существуешь. У меня есть любимый латиноамериканский художник, Кен Гонсалес-Дэй. У него есть гениальная работа, которая называется Erased Lynchings [«Стертое линчевание»]. Что он делает? Он берет старые американские почтовые открытки, на которых изображались сцены линчевания — реальные сцены массовых казней, расправ над людьми. Помимо этого, он пишет монографию, которая производит эффект взорванной бомбы — в ней он доказывает, что линчевания были распространены не только в южных штатах, но и в северных. Только в отличие от южных, там жертвами были этнические меньшинства, например, латиноамериканцы, мексиканцы, китайцы и многие другие.
И на этих найденных в архивах открытках он стирает жертв. Соответственно, что вы получаете? Вы видите на открытке толпу. И эта толпа смотрит на дерево. Всё. Но за счет этого простого жеста он, во-первых, возвращает субъектность жертвам. Он возвращает им право выбрать, быть или не быть на этой фотографии. А во-вторых, он делает объектами не тех, кто был убит, а тех, кто это совершал. И, соответственно, мы оказываемся лицом к лицу с убийцами, преступниками. Мы видим ту самую линчующую толпу, которая, как правило, не несла никакой ответственности.

Ken Gonsalez-Day. The Wonder Gaze: Lynching of Thomas Thurmond and John Holmes, from Erased Lynching Series, 2006 © Ken Gonsalez-Day
Почему я начала весь этот пассаж? Потому что меня поражает, как отсутствующее тело у него становится приемом. И я вижу здесь рифму со своим положением — в прошлом, как ребенка, который не представляет титульной нации [в российской школе]. С одной стороны, ты супервидимый на фоне детей, на которых ты не похож. Но одновременно с этим ты как бы не человек, не субъект, тебя никто не защищает, никто не видит в тебе ценность — у меня был в школе мальчик, который постоянно меня обижал на этой почве. И это рождает интересную позицию, как бы на перекрестке невидимых зон.
И потом, когда я стала хроническим больным, я тоже почувствовала себя невидимой. Обитатели больниц — всегда невидимые существа. Недаром Сьюзан Зонтаг говорит о двух царствах, двух гражданствах: пока ты находишься в царстве здоровых, ты не думаешь о том, что существует огромный мир болеющих людей. То же касается, например, мигрантов или людей, вынужденных жить и зарабатывать в другой стране.
Я поняла, что наши тела вроде есть, но их все время никто не видит, как будто они полупрозрачные. И мне хотелось сделать эти тела видимыми, как бы очертить, дать им эту плоть, чтобы другой не мог посмотреть сквозь нее. Тела стали свидетельствами — настолько сильными, что их невозможно избежать. [Когда читаешь книгу,] на тебе как будто лежит рука.
Еще мне было важно репрезентировать свою болезнь. Не только потому, что она очень трудно диагностируется: многим в России ставят неверные диагнозы, и люди живут с мышечной дистонией, даже не зная об этом. Мне было важно еще и показать, хотя бы чуть-чуть, этот мир, это царствие человеческого страдания, с которым я периодически сталкиваюсь в неврологических отделениях — и которое никто не хочет видеть.
Мне очень понравилось как вы говорили про тело как наследие — для нас это неожиданный ракурс. Но обычно мы пишем про архитектуру, то есть материальное наследие. Поэтому мы хотели спросить вас про Екатеринбург, про места, которые вам там дороги.
Я обожаю Екатеринбург, и там так много моих любимых мест... Во-первых, это уже ставшая легендой клиническая больница № 40. Я, конечно, никому не желаю там оказаться, но если вдруг неожиданно судьба так сложится, то я очень рекомендую спуститься вниз и пройтись по подвалам — там огромная система подвалов, которая связывает каждый из корпусов. И поскольку я там оказывалась частенько, то я очень полюбила эти подвалы. Одна из моих поэтических книг полностью написана в этих подвалах.
Обязательно нужно прогуляться по Плотинке. Сейчас она испортилась, немножко напоминает Анапу, но все равно это классика. Можно прогуляться по ней до [спорткомплекса] Динамо, посмотреть на это самое Динамо, а может даже зайти и поплавать там. В этом бассейне невозможно утонуть — и это мой любимый бассейн именно по этой причине.

Вениамин Соколов. Спорткомплекс Динамо, 1929–1934 годы © Евгений Смирнов / WikiCommons
Конечно, нужно сходить на какую-нибудь экскурсию, посвященную уличному искусству, потому что этого добра в Екатеринбурге навалом. Ельцин-центр — точно одно из знаковых мест города, там хороший книжный, например, и там просто очень много кто проводит время, потому что он большой, обширный, всепринимающий. Был таким до недавних пор, конечно. Сейчас я не знаю, что с ним происходит.
Обязательно нужно съездить на Вторчик [Вторчермет], на Уралмаш, и вообще в те самые места Бориса Рыжего — да простит нас он, которого уже все 28 раз попинали и попели его песню про судно. Тем не менее, это must have, если ты в Екатеринбурге.
Важная часть программы — сходить в Коляда-театр и посмотреть, что там происходит. Можно даже не ходить в него, но вот почитать уральскую драматургию — это интересно. Она супер хтоническая, особенно в девяностые и двухтысячные, один Василий Сигарев чего стоит.
Я бы еще посоветовала Зеленую рощу — это такой парк тоже легендарный. Когда я была ребенком, все говорили, что там ходят маньяки. И, конечно, ужасно его боялись, но одновременно с этим всем хотелось рискнуть и все-таки пройтись по парку.
Мне кажется, что я никогда не закончу этот список, поэтому давайте закругляться. Просто хочу сказать, что Екатеринбург — это город-любовь. Мне кажется, что в него либо сразу влюбляешься, либо нет.

