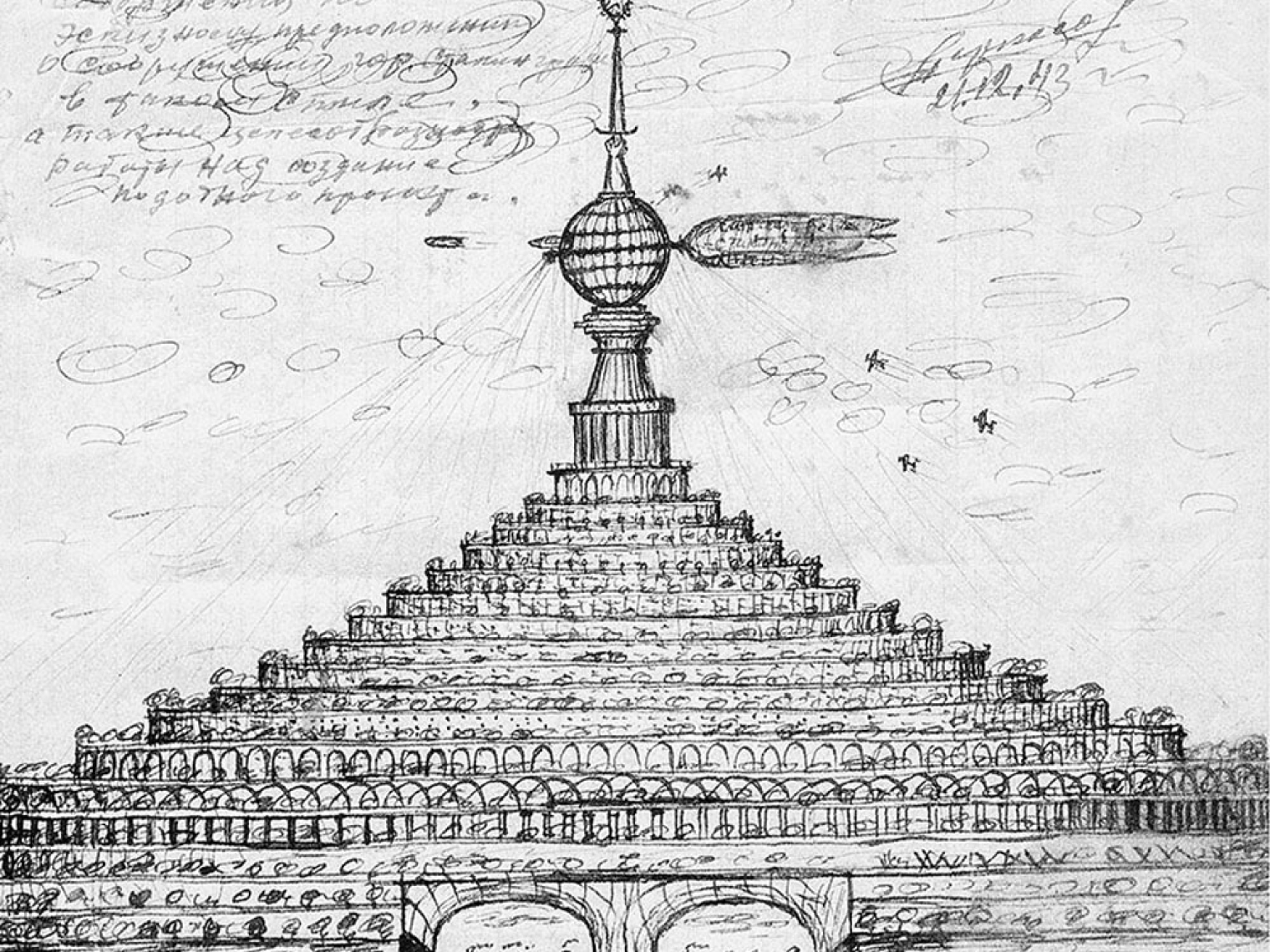В издательстве Корнельского университета вышла книга канадского историка Энтони Калашникова о памятниках эпохи сталинизма. Что побудило его заняться советской культурой, можно ли сравнивать здания, возведенные при Гитлере и Сталине, и зачем изучать тоталитарную культуру сегодня — все эти вопросы задал исследователю наш редактор Владимир Калашников. Публикуем их разговор.

Вид на гостиницу «Украина», 1958 год © András Répay
Когда возник ваш интерес к сталинской архитектуре?
Во многом это связано с моей биографией. Я вырос в русскоязычной семье в Канаде, и в 2009 году мои родители решили взять меня и моего брата в путешествие на нашу историческую родину, если можно так сказать. Это была для меня одна из первых поездок за пределы моей провинции в Канаде, не говоря уже о Европе и России. Больше всего меня поразила монументальная архитектура Москвы: ее величественные высотки, роскошные станции метро, внушительные бульвары. Это был город, который с гордостью заявлял о своем всемирно-историческом значении. Никогда прежде мой родной город на канадских равнинах не казался мне таким скучным, провинциальным и незначительным. Его главная достопримечательность — огромный торговый центр, хотя и, по слухам, один из крупнейших в мире.

Энтони Калашников © University of Waterloo
Даже тогда, в подростковом возрасте, я понимал, что архитектура, которая особенно привлекала меня в Москве, была создана именно в сталинский период (1930–1950-е годы — прим. ред.). Эти сооружения были возведены в грандиозных масштабах, но меня это не подавляло, а, наоборот, вдохновляло. Они словно рассказывали истории о великих людях и событиях, что резко контрастировало с безмолвием более функциональной архитектуры.
Позже, когда я поступил в университет и начал изучать советскую историю, у меня возник вопрос: не стал ли я жертвой своеобразной манипуляции? Мы знаем, как сталинский режим подтасовывал архивные данные, стирал с фотографий людей, попавших в немилость... И я задумался: а не произошло ли нечто подобное и с архитектурой? Возможно, эти памятники были сознательно созданы так, чтобы влиять на восприятие будущих поколений и формировать их взгляд на тот период? Этот вопрос я смог сформулировать уже в рамках своего докторского исследования в Оксфордском университете, которое в итоге вылилось в книгу.

Вестибюль станции метро Белорусская-кольцевая, Москва, 2000 год © У. К. Брумфилд
Расскажите подробнее, о чем книга?
Обычно на сталинскую монументальную архитектуру смотрят через призму государственной пропаганды. Действительно, эти объекты возводились с целью продемонстрировать мощь государства, подчеркнуть незыблемость его политического режима. Я же в своей книге фокусируюсь на мемориальной функции этих памятников. Это довольно простая мысль: памятники всегда в той или иной степени связаны с поминовением. Но на мой взгляд, сталинские монументы представляют из себя особый класс сооружений. Они ориентированы не на современников, а на потомков, и увековечивают не только прошлое, но и настоящее.
По-моему, здесь мы имеем дело с особой подкатегорией монументального, которая уходит корнями в XIX век, достигает пика популярности в межвоенный период и сходит на нет после Второй мировой как в СССР, так и за его пределами. Если мы представим себе современный памятник, то едва ли сможем различить в нем некий наказ потомкам. Вряд ли он будет посвящен герою текущего дня. Скорее, памятники ставятся людям давно умершим и событиям давно минувшим. Большинство же монументов, возведенных в 1930-х — 1950-х годах, были посвящены дню настоящему и обращены в будущее. Приставка «памятник эпохи» добавлялась к большинству построенных в этот период сооружений. Даже инфраструктурные объекты — канальные шлюзы, мосты, станции метро, общественные здания и жилые дома — осмыслялись как памятники эпохе, завет потомкам.
Во время исследования мне также не давал покоя контраст между монументальным строительством и глубоким кризисом, на фоне которого оно происходило. Скажем, строительство третьей очереди московского метрополитена пришлось на тяжелые первые годы Великой Отечественной войны; постановление о сооружении московских высоток приняли в условиях послевоенного голода, унесшего десятки тысяч жизней. Я задался вопросом, какую культурную функцию, помимо своего рода пропаганды режима, выполняли эти объекты?

Барельеф «Сталин и молодежь» на станции метро Таганская-кольцевая, Москва, 1949 год © Главархив Москвы / WikiCommons
В книге я показываю, как с помощью этих памятников власти не просто создавали видимость устойчивой государственности, но и давали людям надежду на выживание — как коллектива, как нации. Действительно, если мы рассматриваем нацию как носитель общей идентичности, мы можем понять, что эта идентичность коренится в цепочке межпоколенческой памяти. Эта цепочка простирается одновременно назад к предкам и вперед к будущим поколениям. И в этом смысле образ потомков, помнящих настоящее, предполагает дальнейшее существование общности. Так почему же это было так важно в 1930-е, 1940-е и начале 1950-х годов?
Во-первых, это годы массовой миграции из сельской местности в города. Это время социальных потрясений, вызванных сталинской программой форсированной индустриализации и модернизации. Происходит распад в обществе, связь между поколениями во многом теряется. Люди как бы отрываются от традиционной культуры, своих родственных связей. И тут государство предлагает им новую общность — национальную. Возведение монументов для последующих поколений создавало впечатление прочности новой объединяющей идеи, давало ощущение стабильности на фоне быстро меняющегося мира.
Во-вторых, на часть этого периода приходятся потрясения Великой Отечественной войны. В каком-то смысле монументы гарантируют символическое бессмертие: человек умирает, но продолжает жить в памяти. Воображаемые будущие торжественные церемонии в память о том, чему посвящен монумент, подразумевают дальнейшее существование потомков как таковых, и в самом широком смысле, выживание коллективной идентичности. Таким образом, эти монументы пытались убедить публику, что память бессмертна, что межпоколенческие связи сохранятся, и что советская общность выживет, несмотря на испытания настоящего времени.
Чтобы написать книгу, вы ездили в Россию, работали здесь в архивах. Были ли какие-то неожиданные находки и открытия?
В основном, я работал в московских архивах — как в государственных фондах, так и в частных. Москва была символическим центром Советского Союза, поэтому там реализовывались все самые масштабные проекты, оставляя огромный след из документов. Наиболее удивительным открытием для меня стал массовый энтузиазм по поводу монументального строительства — почти всенародная мечта о том, чтобы память о них чтили будущие поколения. Например, я рассматривал книги отзывов о выставках, посвященных проектам памятников; изучал проекты монументов, которые люди подавали на открытые конкурсы. Оказывается, рядовые граждане отправляли свои заявки даже на так называемые «закрытые» конкурсы, в которых могли участвовать только профессионалы. Я также рассматривал письма, которые отправляли в газеты, партийные органы и государственные учреждения.
Почтовые ящики были завалены предложениями о строительстве новых памятников и предложениями о том, как они должны выглядеть. Скульптор Сергей Меркуров, ответственный за огромный памятник Ленину, который должен был украшать Дворец Советов, был настолько раздражен объемом «фанатских писем», что жаловался об этом своему покровителю Клименту Ворошилову.
Но, возможно, главное свидетельство мечты людей о том, чтобы память о них закрепилась на века, — сотни тысяч надгробных памятников, а также почти тысяча скульптурных монументов, которые были возведены во время Второй мировой войны. Они были ни с кем не согласованы, строились спонтанно. И это вызывало раздражение правящего режима — ему потребовалось достаточно продолжительное время, чтобы вернуть себе монополию на проектирование и создание памятников. В итоге, в послевоенные годы дошло до сноса некоторых из этих несанкционированных кустарных монументов.
Расскажите подробнее про открытые конкурсы на памятники. Зачем это было нужно советскому руководству, если в результате все равно возводились монументы, спроектированные профессиональными архитекторами?
Интерес режима к возведению памятников напрямую обусловлен стремлением людей оставить о себе память. Режим стремился использовать это желание в своих целях, превращая увековечение памяти в символическое вознаграждение, стимулирующее военную доблесть, самоотверженный труд и политическую лояльность. Например, я рассматривал серию постановлений Совнаркома и Политбюро об увековечивании памяти отдельных личностей, принятых сразу после их смерти. В числе прочего, такие указы могли предусматривать возведение памятника в знак благодарности за «праведную» жизнь. Кроме того, существовали такие инициативы, как установка бюстов дважды Героям Советского Союза еще при их жизни, а позже — и дважды Героям Социалистического Труда.
Более того, как я уже говорил, масштабные стройки того времени преподносились как общенародный проект. К созданию московского метро, например, советские власти привлекли делегации работников со всего Союза. Они намеренно использовали стройматериалы, привезенные из разных республик СССР. Понимаете, создавалась видимость, будто режим позволяет людям выражать свои мечты о том, как сохранить память для потомков, участвуя в проектах, которые спонсирует государство.
Уже давно общим местом исследований сталинской культуры стало ее сравнение с другими тоталитарными государствами — нацистской Германией, фашистской Италией. Действительно, если вспомнить про озабоченность немецкого руководства тем, как сооружения их эпохи будут восприниматься через века, то кажется, что и они были обращены в первую очередь к будущим поколениям. Возникают ли подобные параллели у вас или они слишком поверхностны?
Я абсолютно с вами согласен, параллели присутствуют, но я бы пошел еще дальше и распространил эти параллели не только на так называемые тоталитарные государства, но и на демократические страны межвоенного периода. На мой взгляд, мы имеем дело со схожими процессами.
Как вы уже упомянули, в нацистской Германии говорили об архитектуре, используя очень похожую риторику: что здания простоят века, что они предназначены для будущих поколений. Возможно, наиболее яркое выражение этому придала гитлеровская «теория ценности руин» (Ruinenwert). Согласно ей, сооружения должны были проектироваться таким образом, чтобы даже через тысячи лет, в разрушенном состоянии, они оставались живописными. И по этой причине в архитектуре нацистской Германии должно было использоваться больше камня, а не железобетона. Последний выглядит уродливо с течением времени, в то время как каменные развалины обладают своего рода романтической аурой.
Но в своей книге я пытаюсь, признавая параллели с нацистской Германией, выйти за их пределы и взглянуть, например, на американские постройки времен рузвельтовского «Нового курса». Там мы видим, что здания и проекты, созданные по заказу Управления промышленно-строительными работами, тоже проектировались на века. Постоянство конструкции было условием в конкурсах на проектирование Национальной галереи искусств в Вашингтоне, здания Федерального резерва, плотины Гувера... Если мы посмотрим, скажем, на Англию 1930-х годов, то крупным проектом был Сенатский дом Лондонского университета. Стилистически он, возможно, предвосхитил сталинское здание МГУ, возведенное в следующем десятилетии, а построен был с расчетом на 500 лет эксплуатации. Архитектор Чарльз Холден специально использовал каменные несущие стены, а не более распространенный железобетон, надеясь на более внушительный срок службы.
Кроме того, в период между двух мировых войн проводилось множественно исследований в области долговечного строительства и дизайна. Инженеры-строители разрабатывали защитные покрытия для каменной кладки, искали способы сделать железобетон менее восприимчивым к коррозии...
Так что стремление строить на века и мечта о потомках, которые будут смотреть на эти памятники и вспоминать о настоящем, было довольно популярным. И оно было продиктовано схожими опасениями, что прослеживаются в советском обществе того времени.
Западный мир в целом только что вышел из кровавой бойни Первой мировой войны. На фоне подъема фашизма в Европе существовала угроза ее повторения. Жизнь на континенте была подчинена послевоенной экономии, которая вскоре вылилась в полномасштабную всемирную экономическую депрессию. Так что это были времена, полные пессимизма и тревог. И поэтому, как и в Советском Союзе, мечта о прочной национальной общности, закрепленной в памятниках для потомков, помогала чувствовать себя увереннее. Конечно, здания и монументы несли на себе и идеологический отпечаток контекста, в котором они были созданы. Но в конечном счете они должны были свидетельствовать о стойкости нации, а не о прочности и долговечности какого-то конкретного политического строя.

Государственный академический театр оперы и балета, Новосибирск © MCMXXXV / ВКонтакте
Получается, архитекторы, скульпторы и заказчики сталинской эпохи в целом следовали международной тенденции. Но нет ли опасности, рассматривая сталинскую культуру как нечто в целом распространенное и типичное, нивелировать преступления режима?
Я согласен с вами, что существует опасность релятивизации сталинизма и тоталитаризма. В то же время, я считаю, что нам необходимо посмотреть на это с другой стороны: мы можем настолько экзотизировать тоталитаризм, что рискуем пройти мимо недемократических тенденций в формально свободном обществе. Поэтому нам следует искать путь между этими двумя полюсами и связанными с ними угрозами.
Я бы не стал утверждать, что в сталинских памятниках вовсе нет никаких специфических черт. Несомненно, режим обладал беспрецедентной властью, фактически имел монополию на проектирование и строительство этих монументов. На мой взгляд, это ярко отражается в их иконографии и декоративном оформлении — я не отрицаю, что сталинские памятники были именно сталинскими. Однако, полагаю, что лежавший в их основе импульс — то есть само по себе стремление воздвигать памятники для потомков — был, по сути, общим явлением в межвоенной культуре.
Почему сегодня важно изучать культуру сталинизма?
Это большой вопрос — в очень сжатой форме я бы высказал как минимум два соображения. Одно из них — это своего рода живучее наследие сталинской культуры, все еще влияющее на историческое самопонимание, национальную идентичность россиян. Второе обстоятельство — это, конечно, высокий интерес к истории 1930-х — начала 1950-х годов. Вы заходите в любой книжный магазин, включаете телевизор — и видите там много отсылок к событиям сталинской эпохи. Поэтому я думаю, что в ответ на этот общественный интерес и, может быть, в противовес политической инструментализации событий сталинского периода, его академическое изучение может сыграть важную роль.

Главный павильон ВДНХ во время фестиваля «Круг света», 2014 год © Pavel Kazachkov / WikiCommons
То есть в каком-то смысле памятники сталинской эпохи до сих пор выполняют заложенную в них миссию?
Конечно, памятники не могут говорить сами за себя. Они должны быть проинтерпретированы через уже существующую дискурсивную систему. Имея это в виду, думаю, мы можем сказать, что сталинские памятники продолжают резонировать с государственническим и националистическим дискурсами, которые актуальны сегодня. Они продолжают представлять свой период как время расцвета национальной культуры, как время стабильной и сильной государственности, как время геополитического превосходства. И это в каком-то смысле именно то, на что надеялись создатели этих памятников.
Думаю, что памятники играют особенную роль еще и потому, что они являются материальными объектами. Будучи осязаемыми, они потенциально говорят громче и «перекрикивают» письменные свидетельства сталинских преступлений.
Я вспоминаю один опрос, проведенный в 2000-х годах среди московской молодежи: он показал, что по большей части юноши и девушки были довольно хорошо осведомлены о сталинских репрессиях, о принудительных трудовых лагерях. Но многие отвечали примерно так: «Ну, да, я знаю об этом, зато у нас лучшее метро в мире». Поэтому существует своего рода дисбаланс между наличием реального памятника, который материален и осязаем, и тем, о чем мы читаем в эфемерных средствах массовой информации.
Нам также стоит учитывать тот факт, что сооружения 1930–1950-х годов были созданы очень осознанно, как я уже утверждал, чтобы привлечь внимание будущих поколений. Профессионалы сидели и обдумывали, как создать памятник таким образом, чтобы он привлекал внимание, оставался самобытным, был понятным будущим поколениям. И, возможно, в каком-то смысле их ставка на определенные композиционные подходы действительно принесла свои плоды. Поэтому, да, я думаю в некоторой степени сталинские монументы продолжают увековечивать свою эпоху как прекрасное время, вопреки прямо противоположным реалиям того периода.
Полезные ссылки:
Книга Энтони Калашникова «Памятники для потомков» на сайте Корнельского университета.